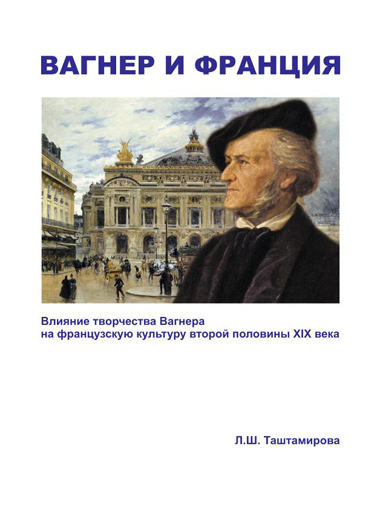Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
3.1. «Тангейзер» как идеал искусства будущего для Ш. Бодлера и его теория символизма в свете вагнеровского творчества
Поворотным событием, имеющим решающее отношение к французской музыке, была статья Ш. Бодлера «Рихард Вагнер и «Тангейзер» в Париже», напечатанная 1 апреля 1861 года в газете «Revue europeene».
На шумный провал «Тангейзера» в Париже, по мнению Бодлера, повлияли несколько факторов: рутинные нравы публики, привыкшей воспринимать музыку как фон к своим развлечениям; «более чем неудовлетворительная постановка, осуществленная бывшим водевилистом, вялая и некорректная игра оркестра; фальшивое пение и жалкое усердие немецкого тенора, уснувшая Венера, зашитая в пакет из белого тряпья, места, отданные на первых двух спектаклях толпе враждебных людей. В итоге «Тангейзер» даже не был услышан» [25, с. 21].
Бодлер был одним из немногих тонких ценителей музыки, которые смогли понять настоящее значение произведения Вагнера. Поэт испытывал желание «слушать и слушать Вагнера» [25, с. 20], пытаясь проникнуть в суть этой музыки. Он читал труды «Опера и драма», «Искусство будущего», что привело к появлению одной из первых работ по произведениям Вагнера, прозвучавшим в концерте, анализ которых был сделан в рамках вагнеровской эстетики одним из величайших поэтов Франции.
Бодлер в своей статье анализирует не просто оперу «Тангейзер», а произведение, которое олицетворяет искусство будущего, признаки которого Бодлер черпает отчасти из вагнеровских литературных трудов, а также из своего понимания музыки. Так, в либретто опер «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Летучий голландец» Бодлер видит «замечательные принципы построения, напоминающие архитектуру античных трагедий» [25, с. 21]. Притягательность трагедий Эсхила для Вагнера и Бодлера в том, что в них заключен образец «слияния искусств» [25, с. 21], идеал, к которому стремились оба художника. «Совершенство синтетического произведения искусства заключается в том, что там, где одно из искусств достигало конечных пределов, тотчас начиналась сфера действия другого; следовательно, интимным союзом этих двух искусств выражается с желаемой ясностью то, что невозможно выразить каждым из них в отдельности» [25, с. 21].
Другое условие, «наиболее благоприятное для лирической драмы» [25, с. 21], – это выбор сюжета. Для Вагнера, как и для Бодлера, «идеальным материалом для поэта является миф, так как в мифе человеческие отношения почти полностью отбрасывают свою условную и доступную лишь абстрактному разуму форму: они показывают, что есть в жизни истинно человеческого, вечно понятного и показывают это в конкретной форме» [25, с. 21].
Благодаря очищающим и возвышающим качествам мифа, в «Тангейзере» перед нами предстает «не заурядный распутник, перепархивающий от красотки к красотке, а универсальный, всеобщий человек, морганатически живущий с абсолютным идеалом наслаждения, с неотразимой и непобедимой Венерой» [25, с. 19].
Общеизвестно, что все мифы – античные, средневековые или вагнеровские – обладают одним удивительным качеством: универсальностью, «нравственная аналогия, о которой я говорил, подобна божественной печати, лежащей на всех народных сказаниях» [25, с. 19–20]. Поэтому, в «Лоэнгрине» «Эльза внимает Ортруде, как Ева – змию» [25, с. 19].
В «Тангейзере», несмотря на извечную христианскую дилемму («две стихии, избравшие человеческое сердце полем решающей битвы: дух и плоть, небо и ад, Бог и Сатана») [25, с. 19], просвечивают традиции трех культурных пластов – античности, средневековья и романтизма. «Лучезарная, античная Венера, рожденная из белой пены, не смогла безнаказанно пройти сквозь чудовищные сумерки средневековья. Она не живет уже ни на Олимпе, ни на благоуханном архипелаге. Она скрылась в глубине волшебной пещеры, Венера приблизилась к аду. Также в поэмах Вагнера, несмотря на то, что они исполнены подлинного вкуса и дивного духа античной красоты, присутствует, и в немалых дозах, дух романтизма. Если они напоминают о величии Софокла и Эсхила, то в то же время порождают воспоминания и о мистериях эпохи, давшей наиболее полное пластическое выражение католицизма» [25, с. 21].
В других, более поздних работах Бодлера, мы находим основные тезисы будущей системы французского искусства конца XIX века, тесно связанной с идеями Вагнера. Через многослойность мифа, через ряд ассоциаций и впечатлений просвечивает теория символизма Бодлера, переклички с импрессионизмом. Вагнеровско-романтический синтез искусств помогает выйти на неосвоенную ранее французами область – мир тайны, Идеи, мир запредельного.
Бодлер перед опубликованием эссе прочел английский перевод работы «Опера и драма» Вагнера. До этого Бодлер был слабо осведомлен о немецкой философской традиции. Франция, несмотря на пропаганду мадам де Сталь тезисов йенского романтизма, в общем-то, была мало знакома с теориями немецкого философского идеализма и его отражением в теории искусства. Французский романтизм – один из вариантов европейского романтизма «имеет отношение лишь ко вторичному романтизму» [18, с. 29]. Бодлера можно рассматривать как первого французского писателя, который привнес во французский романтизм изначально свойственное последнему «философское вдохновение». В трудах Вагнера он находит философскую теорию, которая питается строгими системами великих немецких философов, но не обладает их метафизической глубиной. Тем не менее, для Бодлера эта первая философия искусства. Поэтому появление Вагнера на французской сцене служит началом знакомства Франции с немецкой метафизикой как декларация основных тезисов философии романтизма.
Появление Вагнера на французской сцене так же знаменовало расстройство прежней французской системы изящных искусств. Он начисто отвергает литературную концепцию искусства. Его «тотальное произведение искусства» предстает как конец искусства в форме воссоединения и синтеза всех частных искусств. То, что древние греки понимали под термином «мусике». По этой причине у Вагнера осуществляется воссоединение всех искусств с приматом музыки.
Ф. Лаку-Лабарт делает из эссе Бодлера несколько выводов. В том, что Вагнер отдает превосходство музыке над поэзией, есть политический аспект: формальное превосходство итальянского, испанского и французского искусства объясняется принадлежностью этих наций к романскому языковому идеалу. Вот почему Вагнер решает встретиться с подлинным (не принадлежащим романской системе ценностей) греческим искусством с тем, чтобы провести в жизнь идеальную наднациональную форму искусства. В литературе препятствием служит языковой барьер. Музыка же, как некий универсальный язык, понятный всем без перевода, является видом искусства, способным предельно откровенно, до конца, выразить субъективное содержание. Но чем она более субъективна, тем более может высказать общие для всех людей мысли и чувства, поднимаясь до уровня всеобщего, общечеловеческого.
Моделью завершенной музыки для Вагнера служит бетховенская симфония, которая является в самом точном смысле откровением другого мира. Музыка – самый универсальный язык, открывает нам тайны бытия.
Однако не всякая поэзия, по мнению Вагнера, может соответствовать задаче онтологического синтеза музыки и поэзии. Только миф является поэзией будущего. В этом заключен урок Вагнера Бодлеру. Так как миф показывает извечно понятное всем, истинно человеческое.
Миф рассматривается Вагнером «как единственное средство идентификации» [18, с. 44] для немецкой нации, пребывающей на пути определения народа как субъекта. Здесь Вагнер проводит традицию Kunstpolitik, превращая искусство не просто в одну из политических ставок, но в саму политику как таковую. Цель Вагнера – «заложить миф будущего», преодолев влияние неоклассической европейской цивилизации и, тем самым, доказав самобытность немецкого искусства.
Почему Бодлер так покорен Вагнером? Потому что он уже «слышал» эту музыку: «Я знаю эту музыку»; «Это моя музыка, я узнал ее, как всякий узнает предметы, которые ему суждено любить» [18, с. 48]. Здесь нужно усматривать истоки эстетической концепции символизма Бодлера, две ее основные категории «воображение» и «соответствие». Объекты видимого мира связаны между собой невидимыми нитями, внутренними подобиями. Человек с помощью воображения – «божественной способности» – сразу, не прибегая к философским методам, проникает в глубинные «тайные отношения» [15, с. 25]. Идея взаимосвязанности в природе почерпнута Бодлером у шведского мистика XVIII века Эммануэля Сведенборга. Бодлер оперирует такими понятиями, как запах, число, цвет, форма, движения и в сфере духовного, и природного. Так он пишет: «Сведенборг открыл нам, что все взаимосвязано, все общается между собой и полно соответствий» [15, с. 25].
Итак, музыкальное припоминание, преклонение перед музыкой Вагнера приводит поэта к выводам, описанным в «Эссе» 1861 года, где он дает «перевод» музыки Вагнера: «Истинная музыка наводит разные умы на схожие мысли. Было бы поистине поразительно, если бы звук не мог напоминать цвет, цвета не могли бы передать представление о мелодии, а звук и цвет не годились бы для передачи идей; поскольку вещи всегда выражаются посредством взаимного сходства – с того самого дня, когда Господь изрек мир как сложную и неделимую целостность» [18, с. 50].
Что скрывается за этим узнаванием, к чему ведут взаимные соответствия? В эссе, написанном о музыке Вагнера несколько месяцев спустя после премьеры «Тангейзера», мы находим ответ на этот вопрос. «Помню, что с первых же тактов я почувствовал себя освобожденным от уз тяготения ... Тогда я в полной мере преисполнился идеей, плывущей среди света души, экстаза, образованного негой и знанием, воспарив далеко над естественным миром» [18, с. 51].
Бодлер описывает, по сути дела, трансцендентный, метафизический опыт. Душа, воспарив в высоты, достигает рая. Бодлер называет эту способность – «лирической манерой чувствовать» [18, с. 52].
Вагнер также пишет, что «лирическая, музыкальная душа способна и на смелые переходы, и на обобщения». Иначе говоря, для Вагнера лиризм покоится на универсальном, непосредственно доступном языке.
Для Бодлера реальность имеет смысл реализованности идеальных представлений. Галлюцинации для Бодлера обладают той же степенью непреложности, что и явления природы. Искусство же – это некий акт «суггестивной магии» [15, с. 26], порождающий «мир внешний художнику и самого художника». Иными словами, с помощью лирической способности чувствовать художник попадает в то сверхъестественное состояние, когда «душа поет» и субъект выражает себя посредством песни.
Бодлер был склонен к мистицизму, к эстетизации религии. В дневнике он записывал: «Священники – это служители и участники секты воображения» [15, с. 26]. Музыка Вагнера сблизила Бодлера с немецкими философами-идеалистами, считавшими, что искусство неким образом заменяет религию, так как оно не только одухотворяет внешний мир, но и приближает к высшим истинам мироздания.
Вагнер писал: «С каким удобством и красотой сталкивается поэт среди мифов и аллегорий. Мифология является словарем живых, всем известных иероглифов» [18, с. 52]. Символы вечности, понятные как универсальный язык, позволяют поэту закрыться в «башне из слоновой кости», для того, чтоб, по мнению Бодлера, овладевая формами внешнего мира, претворить их в символы собственного сознания.
Определяя вагнеровскую музыку, Бодлер окончательно признает за ней вид законченного искусства, превосходящего поэзию. Не только Бодлер пишет о страсти, с которой он, Вагнер, добавляет к каждой вещи что-то сверхчеловеческое ... «Вряд ли я строю иллюзии, что вижу в этом то, что мы до сих пор обоснованно звали гением», [18, с. 56].
Вагнер пленил Бодлера наличием силы, превосходящей человеческие возможности. «Человечность человека состоит в его сверхчеловечности» [18, с. 57]. Таков вывод Бодлера из мыслей по поводу Вагнера.
Вагнер выражал вне означивания возвышенное, метафизическое, вместе с тем «то, что, будучи субъективно, субъект превосходит» [18, с. 57]. Музыка Вагнера внушает Бодлеру определенный тип чувствования: «Чувство духовного и физического блаженства уединенности; созерцания чего-то великого и бесконечного прекрасного, насыщенного света» [18, с. 59].
Бодлер говорит в психологических терминах, таких как ощущения, чувствования. Он придает необыкновенную силу музыке в представлении трансцендентального, беспредельного, упуская при этом из виду, что оперы Вагнера («Тангейзер, «Летучий голландец», «Лоэнгрин») необыкновенно театральны, написаны в «stile rappresentativo».
Но это на самом деле автора не интересует. Он отмечает в музыке Вагнера только то, что соответствует его эстетике искусства. Поэтому возможно, что его (Бодлера) Вагнер – вовсе не Вагнер.
Бодлер по- своему понимает вагнеровскую музыку. Он сравнивает ее с поэзией: «Без поэзии музыка Вагнера все еще оставалась бы поэтическим произведением, ... настолько все в ней удачно соединено, ... осмотрительно состыковано» [18, с. 67]. Музыка Вагнера поэтична, потому, что она внутри себя систематична. Каким образом осуществляется систематизация? Вагнер сумел расширить империю притязания музыки, так как он наделил ее способностью зарождать в нас идеи, обращаться к нашей мысли, взывать к размышлению и одарил ее моральным и интеллектуальным смыслом. Бодлер отмечает в музыке Вагнера структурный порядок, где каждому герою соответствует мелодия, мотив и усматривает в этой эмблематике наличие знака, «буквы» [18, с. 69]. Его взгляды подразумевают «волю к литературизации музыки» [18, с. 69]. Эти термины позднее станут основой взглядов Малларме. Бодлер же признает в музыке Вагнера качества равные поэзии. Музыка открывает доступ смыслу, может философствовать, обладать качествами, изначально принадлежавшими поэзии.
По сути, каждая опера Вагнера стремилась походить на мечту Бодлера, некую идеальную книгу, какою ее представлял себе поэт.